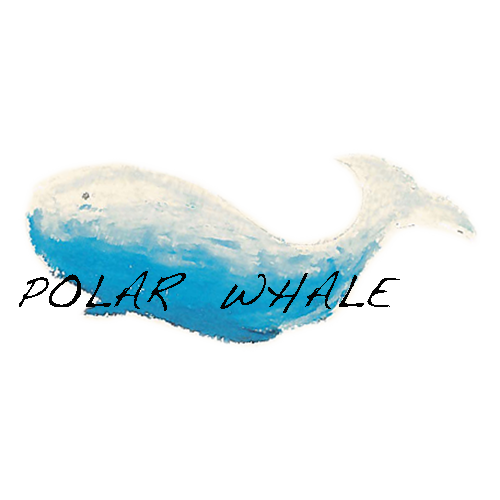Бунт, дорогой Мориверт, выглядит именно так:
повернёшься на пятках — и провалишься в вязкую зыбь,
обернёшься на сушу — там людская рябь или сыпь.
небо виснет на парусе, отражаясь в чугун, зеркала и усы.
Я вишу выше неба, ни на йоту не ближе к Богу,
от восторга захватывает дух,
и накатывает немота.
Бунт, дорогой Мориверт, выглядит именно так.
Всё — спокойствие и бесправие, тишина, монолит,
покорение неизбежности, ведь иллюзия выбора — шелуха.
Это даже не бесстрашие, просто совесть моя глуха.
Только кто-то заставил чёртово небо так полыхать,
что от света и красоты всё во мне оживает, теплится и болит.
Я вишу выше неба,
а оно всё равно мне указывает
и велит.
Боль, дорогой Мориверт, переоценённый громоотвод:
эгоизм под прикрытием, шляпа без дна и дешёвый трюк.
Вот толковый, умный посмотрит в мои глаза и поймёт: хитрю.
Я же чувствую, мне под силу ещё не один вокруг света крюк.
Просто быть бунтарём — неожиданный поворот,
оттого я тяну момент и ною,
вдруг меня всё-таки отведёт.
Белая парусина крахмалится, словно из прачечной за углом,
пахнет ромом и солнцем, обещанием счастья тому, кто ждал.
Я могу не делать этого шага и не могу не: жажда, треба, нужда.
Сердце бьётся, хлопочет о клетку груди, будто бы о наждак.
Что Вы назвали любовью, дорогой Мориверт?
Молчаливый бунт и возврат долгов?
Это то, что не случиться
никак не могло.